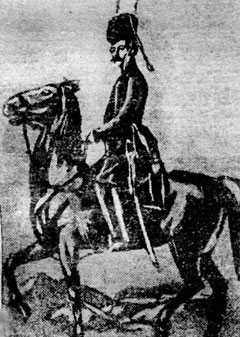
Находясь в Черкасске, Дий слышал рассказы побывавших в Москве казаков о расправе Петра со стрельцами. Вернувшись в Азов, он передал эти разговоры расквартированным здесь стрельцам, сопровождая слышанное в Черкасске своими комментариями: «стрельцов всех бранил матерны и говорил возмутительные и непристойные слова: уж де вашу братью стрельцов четыре полка, которые зимовали в Азове, всех порубили, а всё де и достальных всех немцы порубят, а вы де не умеете за себя и стать. Хотя де вы за себя не стоите, а донские казаки давно готовы!». Если верить пыточным показаниям одного из арестованных по делу Дия, в Азове нашелся и некий «неведомый человек», говоривший: «нечего в кулак шептать, говорят въявь, хотят (стрельцы и казаки) и до большого добраться!».
Старец Дий (в мире - Дорофей Щербачев) был монахом азовского Предтечева монастыря. В декабре 1698 г. Пушкарский приказ в Москве начал следствие по делу Дия, обвиняемого в преступной противоправительственной агитации в Азове, за что он был по окончании следствия «по указу великого государя за его воровство кажнен смертью».
О существовании среди казачества оппозиционных настроений свидетельствует также «дело азовского старца Дия», о котором сообщает акад. М. М. Богословский («Дело азовского старца Дия», в кн. М. М. Богословского «Петр I», Материалы для биографии, под ред. проф. В. И. Лебедева» т. III).
Будучи назначенным 12 ноября 1696 г. в Азов и усматривая в этом ссылку для себя, Цыклер говорил близким ему людям, что он поднимет восстание среди донского казачества, которое, в дополнение ко всему, якобы было недовольно выданной за взятие Азова наградой. «Как буду на Дону у городового дела Таганрога, - утверждал Цыклер, - то, оставя ту службу, с донскими казаками пойду к Москве для ее разорения и буду делать то же, что и Стенька Разин... Будет от того разорение великое, и крестьяне наши и люди все пристанут к нам». 4 марта 1697 г. Цыклер был четвертован (М. М. Богословский - Петр I, т. 1-й).
О том, что при Петре I в народе еще были живы представления о донской вольнице как о силе, всегда готовой к выступлению против крепостников, свидетельствуют, в частности, высказывания арестованного 23 февраля 1697 г. по обвинению в противогосударственных замыслах Ивана Цыклера, полковника стрелецкого Стремянного полка, видного участника стрелецкого движения 1682 г.
В 1698 г. для охраны пути в сторону «перевалки» с Дона на Волгу, а также для того, чтобы держать в повиновении донское казачество и наблюдать за ним, Петр I учредил правительственный форпост в районе реки Камышинки - Дмитриевск.
Примером сказанного может служить история с боршевским монастырем, которым владели донские казаки. В 1686 г. он был отобран у казаков и на правах вотчины передан эпископу Митрофану Волошинскому, что вызвало длительную, но безуспешную для казаков тяжбу за монастырские земли (Воронежские акты, кн. первая, Воронеж, 1851, стр. 46 ( XVI)). Такую же тяжбу вели с епископом тамбовским казаки Григорьевской, Беляевской, Пристанской и других станиц за былые казачьи земли по рекам Хопру и Савале.
По мере того, как помещики и монастыри осваивали на юге новые земли, границы южных окраин русского государства отодвигались все ниже и ниже, врезаясь клином в земли былого «Дикого Поля», освоенные казачеством, и это в свою очередь накаляло и без того напряженную обстановку.
«Новоприходцы» упорно нарушали давнюю традицию казачества - «на Дону пашни не пахивать и хлеба не сеивать» - и они, как говорит один из документов, «живут самовольством и пашут на Хопре и по иным речкам хлеб».
Что касается числа городков на Дону, то ко времени булавинского восстания 1707-1708 гг. на Дону и его притоках - Сев. Донце, Хопре, Медведице, Бузулуку - было зарегистрировано 127 городков, из них 68 - в верховьях Дона. Только на одном Хопре в 1708 г. насчитывалось 26 городков, тогда как в 1674 г. здесь упоминалось лишь 8. По сведениям представителей самого правительства, если «не в давных летах (в казачьих верховых городках) было человек по двадцати и по пятнадцати», то в 80-х годах XVII в. в тех городках проживало человек по 200 и по 300 (из указа князя В. В. Голицына). О возникновении многих городков на Дону именно в конце XVII - начале XVIII вв. свидетельствовал в 1707 г. и князь Юрий Долгорукий.
Трудно представить себе, что в таких городках как Раздоры, Усть-Медведицкий проживало лишь от 20 до 150 казаков. Сведения эти явно преуменьшены и в лучшем случае имеют в виду только старожилых казаков, а не все казачье и связанное с ним население городков и прилегающих к ним местностей.
Тот факт, что казаки скрывали от Петра действительное количество жителей городков, подтверждается отчетными донесениями представителей правительства, посланных на Дон с целью установить места нахождения корабельного и строевого леса. В этих донесениях содержались также сведения о казачьих городках, расстоянии между ними и числе жителей в них: «от Арлова городка до Раздоров городка... водою от городка до городка версты с полчетверти. В нем станичных казаков двадцать один»... В Арпачинском городке - «казаков двадцать девять; в Усть-Медведицком городке - сто тридцать пять человек. А писаны... по словам станичных атаманов и казаков» (Материалы к истории Войска Донского, СОВДСК, вып. XII. Новочеркасск, 1914).
Оседая в верховьях Дона, беглые увеличивали население существовавших казачьих городков и закладывали новые городки и селения. При этом верхи казачества предпочитали скрывать действительные данные о численности городков и населения в них отчасти потому, что домовитые казаки пользовались дешевым трудом беглых и не стремились облегчить московскому правительству поимку и насильственный возврат беглецов.
Казачьи городки по верхнему течению Дона были переполнены беглыми, которые еще совсем недавно влачили на себе ярмо крепостной неволи, административного произвола, многочисленных и непосильных повинностей. Казачья голытьба вместе с вновь приходящими крестьянами, беглыми стрельцами, солдатами, раскольниками по-прежнему (как и в дни восстания Степана Разина) представляла собой огромную массу недовольных, готовых каждую минуту выступить против диктатуры крепостников, против феодального гнета.
Положение осложнялось и тем, что как раз при Петре I на Дон вновь хлынул из различных областей России широкий поток беглых людей, в первую очередь, - крепостных крестьян, затем - посадских, а также мелких служилых и «работных» людей, стрельцов, раскольников и иных. Бежали на Дон и люди, мобилизованные правительством на строительные работы.
Подобно своим предшественникам по царскому престолу, Петр делал ставку на верхушку казачества с той, однако, разницей, что он отвергал мысль о сохранении за ней каких-либо особых прав и привилегий. Во всей массе казаков Петр видел подданных своего государства, судьбой и жизнью которых он привык распоряжаться безраздельно и безоговорочно. То, что Дон являлся местностью, где находили приют и убежище беглые крепостные и, вообще, многие недовольные политикой Петра, еще больше заставляло его относиться к Дону настороженно, бдительно и побуждало его навести здесь «порядок», прибрать казачество к своим рукам.
Укрепляя русское национальное государство, расширяя его владения, пробивая себе дорогу на юг, к Азовскому и Черному морям, Петр не мог мириться с существованием казачества как более или менее самостоятельной и относительно независимой от центральных властей организации.
Годы царствования Петра I явились периодом существенных изменений в жизни донского казачества, временем дальнейшего и притом быстрого ограничения его былых прав и вольностей.
Подонье-Приазовье в составе Российской империи в XVIII веке
Очерки истории Подонья-Приазовья. Книга II (Лунин Б.В.)
Комментариев нет:
Отправить комментарий